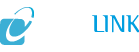| abstract
| - Много лет не выходит у меня из головы, стоит и стоит перед глазами картина с двумя девчушками-школьницами, горько и неутешно, как по родному, плачущими на похоронах Шукшина. Скорбное это событие снималось любительской камерой, снималось урывками то, что попадало в теснимый огромной толпой объектив, — и вот крупным планом два юных, от слез еще более красивых, как бы принимающих в эти минуты прозрение, лица, преображенные страданием и одухотворенностью в лики. И хочется, иногда до нетерпения хочется узнать, что же сталось теперь с теми девчушками, поразившими выражением горя и просветленности, и боязно: вдруг ничего хорошего и возвышенного не сталось, измельчали в обессиливающих тревогах и мелочах дня, загасили так видимо вошедшее в них и призвавшее озарение. И все мы — сохранили ли мы ту общность, ту чувствительность друг к другу и соединяющей нас кровности, много ли исполнили из невольно вырывавшихся обещаний, на что потратили порыв, готовность претерпеть, не распущена ли духовная рать для защиты отечественных святынь, чему дали взрасти из того, что соединило нас в горькие октябрьские дни 1974 года при прощании с Шукшиным? Нет, не может такого быть, чтобы забылось, истрепалось и завалилось новыми событиями и впечатлениями то событие и впечатление, когда многие и многие тысячи людей облетала, прощаясь и обращаясь, надорванная непосильной работой душа Шукшина. Не может такого быть, чтобы в наши дни, не вмешиваясь в происходящее, пребывал он тихо на заслуженном отдыхе, чтобы отдалилась и отболела его боль за человека и Россию, отошли в былое и превратились во вчерашние вопросы его яростные поиски совести и души. Но время идет, и родившиеся в год смерти Шукшина стали сегодня его читателями. Для них он невольно имя классического ряда, так же, как Александр Вампилов, как Федор Абрамов. Туда, в этот ряд, определяет не столько литературоведение, сколько народное мнение, знающее заслугам свой счет. Ученые умы могут и силой подсадить какого-нибудь своего избранника на классическую полку и водрузить на его голову терновый венец, а читатель спустя несколько лет о нем забудет, и тот, передвигаемый все дальше и дальше, попадет на положенное ему по справедливости место. Если вспомнить шукшинскую сказку «До третьих петухов» и представить библиотеку, из которой персонаж русских сказок Иван-дурак собранием литературных героев отправлен был за справкой, должной удостоверить, что он, как пишут в предисловиях, вовсе не дурак, то как, должно быть, неуютно чувствует себя в этой компании шукшинский «чудик» Алеша Бесконвойный. Не миновать и ему отправляться за справкой, что он нормальное и самое что ни на есть типическое лицо. Степан Разин, тот сразу взобрался на верхнюю полку в дружину к Илье Муромцу и своему собрату из донских атаманов, которые, по общему мнению, зычно, но невпопад глаголят, мало что понимают в современной обстановке и, привыкшие повелевать, мешают справлению демократических норм жизни. Однако они, былинные и ватажные богатыри, и впрямь неважно ориентируются во всех хитросплетениях текущей обстановки, невесть куда текущей, и зачастую вынуждены помалкивать. Но Алеша-то, Алеша Бесконвойный недавно из мира сего, наш, можно сказать, современник, и по горячему своему характеру не в силах сдержаться, когда библиотекарша, это чадо донынешнего образования и самообразования, названивает кому-то по телефону и приглашает в театр: « Какой спектакль? Я что — звякнулась, идти на спектакль! Ты уж совсем закаменел. Они на само... на само... в общем, на само... порнуху гонят. Плюрализм. Я возьму с собой спонсора, и ты бери, а там, если что, сыграем в перестройку. Фирма веники не вяжет. Тявка, милый, не тявкай. Это тебе не застойные времена, я не могу всю жизнь стоять в одном стойле. Ну ладно, ладно, устроим брифинг. Потом ротацию. Потом рванем к Джику, у него баня с подогревом. О-о-у-у, прямо пот целомудрия выступил. Скорей в театр.» Послушав на дню подобное раз десять, сунется Алеша возмущаться и напорется по инициативе Бедной Лизы или какой-нибудь Тани Ивановой из последних активисток на резолюцию: без справки, что ты не чудик и не дурик застойной эпохи, терпеть тебя больше не станем. Баню он топил по субботам, подумаешь, важность какая! В баню мы тебя к Джику и определим, которая с подогревом, там поймешь, что за времена на дворе. Ничьих ты чаяний не выражаешь, пень дремучий, и с передовиками мысли находиться не имеешь права. Чтоб до третьих петухов справка имелась! Делать нечего, отправится Алеша Бесконвойный искать знакомого нам Мудреца, ведающего справками, и такого по дороге к нему и у него насмотрится, такого унижения натерпится и таких обвинений наслушается, что, едва-едва к третьим петухам успев заскочить в библиотеку, приступит он еще отчаянней, чем до него Иван-дурак, к Илье Муромцу и донским атаманам: «Нам бы не сидеть! Не рассиживаться бы нам!» И когда поведает он о своих похождениях, Иван и тот схватится за голову: до этакого в его пору было еще далеко. Нам сейчас очень не хватает Шукшина. Казалось, он сделал все и даже больше, чем мог один человек, писатель, режиссер и актер, сделать для собирания разрозненного, растрепанного по кусочкам, разроссиенного населения со слабой памятью, оставлявшего свои исконные веси и забывающего свои старинные песни, в одно духовное и родственное тело, называемое народом. Читатель и зритель принял Василия Шукшина не за доступность, не за шуточки и фокусы, на которые горазды его герои, все это скоро прошло бы с приходом нового дня и новой популярности, — нет, задев чувствительные и художественные струны, он задел гораздо большее — неотмершие корни народные, добрался до их нервных окончаний и безжалостно давил и давил на них: больно? А больно — так жив, а жив — так подымайся, берись за ум и собирайся на народную службу, хватит обходиться хлебалом да потешалом, плодить безродность и бесславность, где-то у тебя должна быть душа, память, вера, прислушайся к ним. Распущенный по человеку, потерявший связность — не народ; лишенный в народе вечности - не человек. В происходящих сегодня переменах нам не хватает Василия Шукшина как честного, никогда, ни при какой погоде не ломавшего голос художника, скроенного, составленного от начала до конца из одних болей, порывов, любви и таланта русского человека, как сына России, который нес в себе все ее страдания и хорошо понимал, что для нее полезно и что губительно. И когда упрекают ныне литературу, что она отстает от стремительности и калейдоскопичности событий, что слишком долго осмысливает она решительный и, возможно, судьбоносный поворот истории, в этом есть доля истины. Умея из частного, ничем не примечательного случая сделать замечательный рассказ, Шукшин умел в хаотичности и разноголосице дня рассмотреть направление, предвидеть его результаты. Его «чудик», надо полагать, взял бы уже семейный подряд на оставленной земле, отведал в аэропорту кооперативного шашлыка, а затем заглянул в кооперативный туалет, там и там кой-чем поинтересовался, не удержавшись от спора, кому это выгодно, он бы принял участие в предвыборном митинге, поахал над разгулом демократии и сам бы крикнул от себя посреди общего крика; он бы пробился на конкурс красоты, взялся обсуждать с соседом прелести «королев» плоти, он бы до жюри дошел, доказывая. что деревенское происхождение, заметное в размерах тазобедренной части, — это же самое главное... О, ему, «чудику», было бы сегодня чем занять свою острую наблюдательность и способность встревать и доискиваться до сути вещей. Едва ли есть смысл гадать, где, на чьей стороне стоял бы в наши дни Шукшин в разгоревшихся спорах вокруг путей благополучествования общества, он выбрал свою позицию раз и навсегда и имел возможность сказать о ней недвусмысленно. Василий Шукшин не пришел в искусство в том понимании, как профессионально образовавшийся, принявший определенные правила искусства автор пристраивается в избранное общество с края и принимается по мере таланта постепенно продвигаться в центр. Он сразу взошел в центре — точно пророс из земли, так что передвинуть его оказалось невозможно. Все в нем и его слове естественно, самовыговариваемо, прочно, все пропитано солями, которые содержатся в породившей его почве, отмерено мерой народа, из которого он произошел. Время от времени в искусство для того, кажется, и являются такие личности, чтобы оно не заблудилось и не заболталось, не потеряло цену слову и чувству. Они приходят, и словно пелена спадает с глаз: вот же оно — настоящее, а то, что выдавало себя за настоящее, не стоит и ломаного гроша. В кругу витийствования, с одной стороны, и затверженных формул в искусстве, с другой, Шукшин испытал и подозрительность, и настороженность, и неприятие. Уж очень он виделся простым. Он словно бы не писал, а записывал, не играл, а репетировал: меж строками Шукшинского письма оставалось так много воздуха, слово его было столь безыскусно, что привыкший к красотам разглагольствования и длинным периодам слух ощущал некую некомфортность. Не сразу приходило понимание, что это и есть литература, это и есть искусство. Не по форме одетая, не обряженная в словеса и кудеса, скроенная на первый взгляд наспех, являлась живая и точная картина жизни, сильная и азартная, являлась в том законченном виде, когда любая нескладность, заговорив, превращается в необходимость. Не Шукшин входил, как в костюм, в роль, а роль, как в убежище, входила в него, не он подбирал подходящий случай, событие, сцену, то, что называется в литературе сюжетом, а они, будто бы случившись, произойдя самостоятельно, искали его заступничества. Читая Шукшина, не чувствуешь мук рождения рассказа, не замечаешь швов, которыми сшивался он в одно целое, а чувствуешь чудо воскресения события, призвания его в ряд, справляющий наипервейшую службу. Служба эта — расшевелить человека, выгрести его душу из-под наростов довольства, обид и заблуждений, представить ее, так сказать, владельцу для пользования. Мало кому удавалось столь близко подступиться к человеческой душе, услышать ее сдавленный, стонущий зов, как Шукшину. Служба эта — расчистить родники, по которым по единице, по душе, по человеку мог бы сойтись, созваться, стать рядом плечо к плечу уцелевший от побоищ и болезней, от одурманивания и растления народ, сойтись по той самой необходимости, которую Шукшин имел в виду, говоря, что «народ всегда знает Правду». Служба эта — собравшись воедино, стать на защиту родной земли от разбазаривания и надругательства, от мотовства, не виданного прежде, даже в годины военных поражений. Тут можно добавить еще как бы в скобках, но не за чертой шукшинской темы, что разбазаривание это привыкло твориться во имя какого-то абстрактного благополучия абстрактного народа, — живой народ и должен высказать к нему отношение. Всё настоящее, искреннее, если даже произносится оно впервые, является к человеку как воспоминание. Именно потому, что оно истинное, для него словно бы оставлено место, ждущее заполнения и освещения. Как бы ни остерегались мы преувеличить значение художника такого масштаба, как Василий Шукшин, оно само сказывается в звучании имени и в том невольном отзвуке, какой рождает оно в наших сердцах. Если бы потребовалось явить портрет россиянина по духу и лику для какого-то свидетельствования на всемирном сходе, где только по одному человеку решили судить о характере народа, сколь многие сошлись бы, что таким человеком должен быть он — Шукшин. Ничего бы он не скрыл, но ни о чем и не забыл. За те годы, что миновали после его смерти, ничуть не потеряли своего искомого смысла слова, которые он писал с большой буквы: Народ, Правда, живая Жизнь. ни восклицательного, ни вопросительного значения они не утратили. Но сегодня сама живая Жизнь заставила бы, вероятно, Шукшина сделать к ним пояснения и добавления, идущие от происшедших за последние годы перемен. Совсем недавно, кажется, эти понятия шли вместе с нами на приступ отнюдь не мифической крепости, за стенами которой они рассчитывали существовать и развиваться вольно и полнокровно. Ныне эта крепость взята, любое слово звучит в ней свободно, однако победители слишком быстро разошлись во мнении — что же такое Правда, Народ, Свобода, где, в каких краях искать добродетели и выгоды. И когда не хватает голоса, когда на каждое слово раздается в противоречие десять, снова и снова вспоминаешь и призываешь Василия Шукшина: к сказанному он бы еще сказал так, что его не нашли бы чем оборвать и заглушить. Нет, не отменяется, не отменится никогда тяжкая служба русского художника: «виждь и внемли». 1989 г.
|


![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)